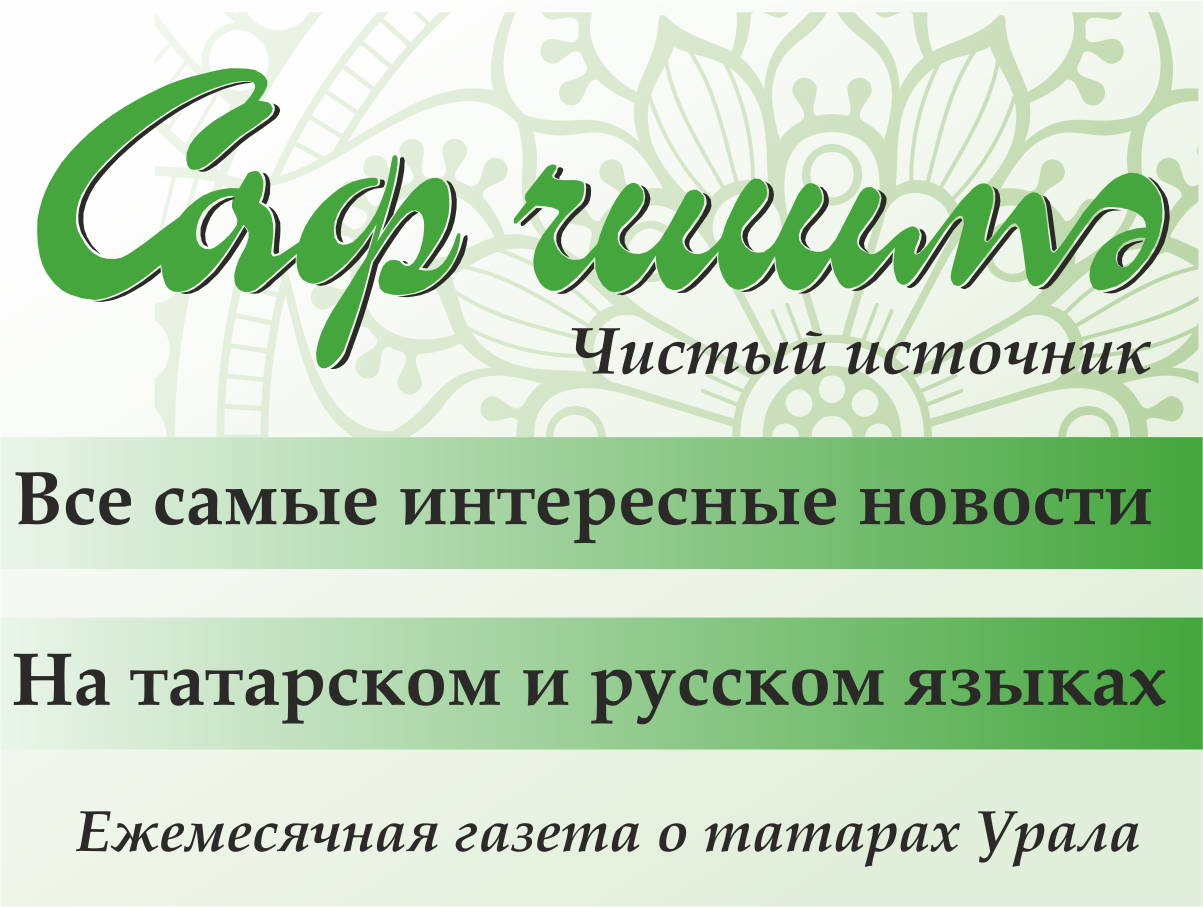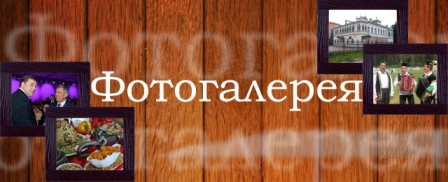Автор романа "Зулейха открывает глаза" — главного литературного открытия прошлого года — рассказала о своем интересе к советской истории и объяснила, почему ей важно писать о вчерашнем дне.
Главный русский роман прошлого года — "Зулейха открывает глаза" — переводят на 18 языков и готовят к изданию в 25 странах. Дебютную работу Гузель Яхиной отметили единодушно жюри сразу двух литературных премий — "Ясной поляны" и "Большой книги".
В центре книги — судьба татарской крестьянки, мужа которой убивают, а ее как раскулаченную ссылают в Сибирь. О героях книги и стоящих за ними реальных судьбах автор рассказала Анне Кочаровой.
— В вашем романе есть несколько "пластов" — личная история главной героини, исторический контекст, колорит татарской деревни… Насколько читатели в разных странах смогут понять какие-то сугубо советские реалии?
Что должно случиться, чтобы ее сознание поменялось? Именно поэтому, я надеюсь, книга будет интересна любому читателю.
— Получается, что она может прийти к чему-то новому только через страдания?
— В этом, наверное, и есть главная мысль романа: даже в самом горьком несчастье может содержаться и зерно будущего счастья.
— Вы не скрываете того, что прообразом главной героини стала ваша бабушка. Насколько биографичен роман?
— Из жизни бабушки я взяла только два реальных эпизода: временной период 1930-1946 и маршрут из деревни в Сибирь. В те времена по этому маршруту гнали многих раскулаченных. Мне написал один 93-летний дедушка из Уфы, который прочитал роман. Он описал свои годы, проведенные в ссылке — практически те же, 1930-1947-е. Он был раскулачен откуда-то из Поволжья и отправлен в Красноярский край. По этому маршруту много кто проехал. Я старалась, конечно, проживать с героями то, что проживали они, сначала два года до написания романа, а потом 8 месяцев работы над текстом.
— Что заставило вас обратиться к этому периоду — семейная история?
— Я всегда интересовалась советским периодом истории, это для меня самое интересное время. И когда я уже после смерти бабушки стала интересоваться этой темой больше, и прочитала мемуары других раскулаченных — захотелось написать. Моя бабушка вернулась в Татарстан 1946 году, закончив педагогический техникум. Дальше у нее пошла совершенно обычная жизнь сельской учительницы, она познакомилась с дедушкой, у них родились четверо детей. Они переехали в Казань в поисках лучшей жизни, обосновались там. Дальше пошли внуки. Был большой дом, куда постоянно приезжали бывшие односельчане, друзья.
Бабушка после ссылки прожила совершенно другую и очень насыщенную жизнь. Но разговоры о сибирском периоде были, это и не замалчивалось, но и не педалировалось. Надо было ее, конечно, расспрашивать больше, садиться и все записывать. Но даже то, что она рассказала, — это неплохой материал.
Она вспоминала разное: не было ощущения, что это был беспросветный мрак и ужас. Это была тяжелая жизнь, но не менее тяжелая, чем в деревне, в которую она потом вернулась. В ее рассказах было все, и они были очень яркими.
— Но когда читаешь роман, кажется, что ваши герои переживают именно беспросветный ужас…
— Бабушка рассказывала, например, про докторов, которых они боялись. Почему-то ходил слух, что доктора должны отравить детей. И они боялись лечиться, боялись идти в лазарет за лекарствами. Им было страшно. Какие-то странные, на наш взгляд, вещи…
— Но такой роман потребовал и работы с документами?
— Что касается научной части, то я читала разные диссертации, книги. Особенно мне помогли работы Виктора Николаевича Земского, это российский историк, он скончался в прошлом году. Но я с ним встречалась. Последние 25 лет он занимался темой спецпереселенцев, работал в архивах, ему принадлежат те цифры, которым я верю. Он говорил не огульно, а действительно сделал подробнейший анализ.
Он называл такие цифры: 3,5 млн раскулаченных, из них 2,5 отправлены в ссылку. Другой контингент этих спецпоселений — бывшие уголовники и деклассированный элемент — 6 млн. Он посчитал количество поселков: в первые 5-10 лет колонизации было основано около двух тысяч поселков, потом волна пошла на спад.
Также я очень много провела времени на сайте Сахаровского центра, где выложено много мемуаров.
— У других героев, кроме Зулейхи, есть реальные прототипы?
— Это скорее собирательные образы. Я знала твердо, что профессор-медик должен быть немцем, потому что в Казани очень много немцев было с екатерининских времен, и особенно после основания университета в 1804 году. Тогда очень много немецкой профессуры приехало преподавать, и немецкая община в Казани до революции была очень большой, есть даже свой лютеранский собор. Все остальные герои были собраны из того, что я прочитала.
— У меня как у читателя вопрос — в конце романа рожденный в ссылке сын Зулейхи — Юзуф — уезжает на большую землю, а сама она остается с убийцей своего мужа, ее возлюбленным красногвардейцем Игнатовым. Мне показалось, что герои погибнут…
— Я заставлю каждого читателя самого ответить для себя на этот вопрос. Могу сказать твердо про Юзуфа — я знаю, что с ним будет дальше. Я прописывала эту историю, но она не вошла в роман.
Уже 75-летним стариком в 2015 году Юзуф возвращается в Семрук (поселок не берегу Ангары, в котором происходит действие романа — ред.) и идет по тем местам, которые были ему дороги, но там уже почти ничего нет. Тайга съела Семрук, оставив только развалины домов, фундаменты, сквозь которые проросли деревья.
Такая концовка мне казалось достоверной, потому что многие из трудовых поселков, основанных в 1930-е годы, позже оказались не нужны, были разрушены, исчезли с карт. Поселок, в котором жила моя бабушка, Пит-городок, он исчез с карт, по-моему, в 1997 году. Позже, когда роман уже вышел, выяснилось, что питчане, потомки тех людей, которые там жили, каждый год летом собираются и едут туда поддерживать в порядке кладбище.
— Вы очень подробно описываете то, как герои выживают в тайге, описываете рождение сына главной героини в ужасных условиях. Откуда все эти знания?
— Что касается тайги, то у меня богатый походный опыт. В медицинской теме мне помогла моя свекровь, в прошлом акушер-гинеколог. Я ее попросила смоделировать акушерскую ситуацию, которая была бы чревата потерей жизни для матери и плода, но при этом была бы разрешима полевыми средствами. Она мне в деталях описала, что происходит. Я только свела это драматургически.
— Вы учились в Московской школе кино, и нельзя не заметить, что и роман ваш очень кинематографичен. Насколько важна для читателя визуальность текста?
— Не только кино, но и телевидение, интернет — все это повлияло на наше сознание. Сегодняшние молодые люди воспринимают лучше визуальный контент. Мы живем на этом сломе. И мне кажется естественным рассказывать историю при помощи картинок. Я всегда интересовалась кино, и учеба в Московской школе кино просто помогла мне овладеть инструментарием.
— Недавно вышла "Обитель" Захара Прилепина, теперь ваш роман. Почему возникает интерес к теме ГУЛАГа — настал момент нашему поколению осмыслить этот период истории?
— Для меня не было выбора, о чем писать. Поэтому я просто писала свою личную историю, не думая ни о поколениях, ни о том, что мы уже внуки, которые пишут о своих бабушках и дедушках.
Меня очень подкупает, когда читают пожилые люди. Но мне бы очень хотелось, чтобы читали молодые, это ценно вдвойне. Я свою позицию в романе достаточно четко и однозначно выразила. И для меня было удивительно услышать, что в романе есть мотив оправдания сталинских репрессий…
Каждый видит что-то свое. Но мое отношение к периоду сталинского правления совершенно четко сформировано, мне кажется, я смогла его донести в романе. Какое еще может быть отношение к тирании?..
— Роман принес вам огромный успех. Что дальше?
— Я уже закончила этот роман почти полтора года назад, это большой срок, я уже отошла от этой истории, отпустила ее.
Вторую вещь писать сложнее, потому что ты понимаешь, что какая-то планка взята. Сейчас я работаю над повестью, тоже о советском времени.
Мне кажется, нужен особый талант для того, чтобы писать о современности, чтобы выходило нефальшиво, интересно и точно. Мне пока удается писать о вчерашнем дне.
РИА Новости http://ria.ru/interview/20160301/1382525469.html#ixzz438n5luYq
-
«Вак декабрь»: учимся готовить бәлеш в Екатеринбурге, идем на дискотеки, концерт и в театр -
Создаем застывшую красоту, танцуем, смотрим мюзикл, кино, спектакли и концерты, пишем диктант и проводим ночь в музее -
Где в Екатеринбурге и дистанционно выучить татарский язык -
«Мәхәббәттә көч»: в Екатеринбурге дружбу народов закрепили столом согласия -
Просвещаемся, летаем, становимся батырами, танцуем, смотрим кино, спектакли и концерты -
Исламский подход в развитии астрономии -
Татарстанский авангард и андеграунд в позднесоветские годы -
На старинном Татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга восстанавливают ограждение -
Начало «татарского» учебного года, Мавлид ан-Наби, «Пояс культур» и старт концертно-театрального сезона -
Какое оно, новое искусство Казани? Уральский взгляд -
Новое искусство Казани, уральский бренд одежды и день татарской культуры: события уходящего лета -
Концерт, игры, скачки и борьба: программа главного Сабантуя Свердловской области -
В Екатеринбурге появится арт-объект, посвященный уральским купцам Агафуровым -
13 июня состоится субботник и начнутся исследования на старинном татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга -
Лето начинаем с Курбан байрама, Агафуровских вечеров, Ночи музыки, Сабантуев и пирожков -
Даты Сабантуев в Свердловской области: где проведут, а где отменили -
Медиа eka.tatar 15 лет! Но этот день рождения может стать последним -
Идеи на майские: создаем тюбетейки, готовим печенье, слушаем о блюзе, закрываем сезон концертов и спектаклей -
Узнаем как стать батыром, смотрим кино, концерты и спектакли, рисуем узоры, создаем древо и фестивалим -
Госансамбль песни и танца Республики Татарстан покажет семь концертов в Свердловской области -
Рамадан, концерты, вечеринки и татарский женственный фолк в самый весенний месяц года
ЛЕГЕНДЫ ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ

Певица Земфира отметила 45-летие
Певице и автору песен Земфире исполнилось 45 лет
Главное меню
Видеопроекты
Рубрики
Контакты
Издатель и шеф-редактор:
Редактор-корреспондент:
Назлыгуль Ижгузина
*Instagram Meta Platforms Inc. запрещено на территории России